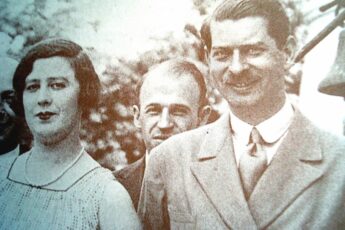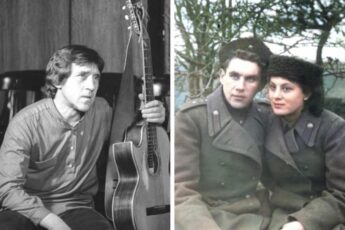После оглушительного успеха «Воздушного извозчика» в судьбе Людмилы Целиковской наступил перелом. Фильм, который обожали миллионы зрителей, словно поставил на ней невидимую печать…

*

КОРОЛЕВА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ
Людмила Целиковская родилась осенью 1919 года в Астрахани. Ее отец, Василий Васильевич, руководил местным музыкальным коллективом. Мать, Екатерина Лукинична, пела. Там они познакомились и вскоре поженились. Только вот радость от рождения дочки омрачалась одним обстоятельством — малышка постоянно болела.
Астраханский климат Люсю просто «съедал». То ангина, то бронхит, то еще какая хворь. После нескольких лет мучений местный доктор махнул рукой:
— Увозите ребенка, иначе зачахнет совсем.
Что оставалось делать? Семья собрала вещи и двинула в Москву. И — о чудо! В столице девочка будто переродилась. Щеки порозовели, кашель пропал, да и вообще ожила.

А уж как пошла в гору карьера отца! Из провинциального дирижера он превратился в маститого музыканта — руководителя симфонического оркестра Центрального дома Красной армии.
Людочке с ее абсолютным слухом тоже была прямая дорога в музыканты. Родители в этом даже не сомневались. Отправили в Гнесинку, посадили за рояль. Но девочку манило другое. Ей хотелось не играть гаммы, а перевоплощаться.
Пока другие дети корпели над этюдами, Люся с подружками устраивала настоящие спектакли. А любимой их забавой было нарядиться нищенками и выйти «на работу» на Тверскую. Юные актрисы дрожащими голосами просили милостыню, изображая настоящую нужду. Получалось настолько убедительно, что прохожие бросали в их шапочку монеты.

Продолжалось все это до тех пор, пока школьницы не попали в поле зрения патруля. А когда в милицейском участке у них потребовали документы, пришлось раскрыть карты. Но вместо того, чтобы оправдываться, Люся разыграла целый спектакль. То плакала, как беспризорница, то смешила сотрудников анекдотами. Через полчаса суровые стражи порядка утирали слезы от смеха.
— Да тебе, девка, прямо на сцену надо! — хохотал начальник отделения, выписывая «строгий выговор».
Этот курьезный случай только укрепил уверенность Целиковской: она просто рождена для сцены.
Хотя мама после этого неделю ходила бледная:
— Ну, представь, если бы тебя в детприемник?!
— Зато теперь я знаю, как настоящие нищенки себя ведут, — парировала Люся.

ЩУКИНСКАЯ КОМЕТА
Сдавать экзамены в Щукинское училище Людмила отправились вместе с мамой. Екатерина Лукинична никак не хотела отпускать дочь одну.
— Разволнуешься еще,- резюмировала та.
И было от чего разволноваться. Конкурс — сто человек на место! Но девушка, привыкшая к перевоплощениям еще с «нищенских» экспериментов, была спокойна. Для поступления она выбрала не пафосную декламацию, а тихую, почти шепотом, исповедь — «Сон Татьяны». А уж когда запела романсы, благо музыкальный слух был абсолютный, в зале замерли.
— Эта девочка играет не умом, а нутром,- заявил коллегам один из корифеев Вахтанговского театра Рубен Симонов.

Среди однокурсников Целиковской не оказалось ни одной яркой звезды. Вся слава досталась ей одной. Уже на студенческой сцене она проявила себя во всей красе, играя так, что зрители забывали, что перед ними студентка, а не маститая актриса.
В училище Людмилу в шутку называли «наша Щукинская комета». Так стремительно взлетела ее карьера. Ее секрет был прост: она не изображала персонажей, а буквально ими становилась. Когда играла задорную девчонку, зрители хохотали до слез. Когда выходила в драматической роли — не могли сдержать слез.
Преподаватели только качали головами:
— Такое чувство правды либо дано, либо нет. Этому не научишь.
Особенно запомнился ее этюд «Цветочница», где без единого слова, только мимикой и пластикой начинающая актриса создала трогательный образ. После показа весь курс молча, стоя аплодировал.
И только обычно скупой на похвалы Рубен Симонов отметил:
— Вот увидите, через пять лет вся страна будет знать ее имя.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Пророчество сбылось гораздо раньше. Уже на втором курсе Целиковскую пригласили сниматься в фильме «Молодые капитаны». А еще через два года случилась ее главная роль в комедии Константина Юдина «Сердца четырех».
Война застала нашу героиню на пике кинокарьеры. Картина с ее участием «Антон Иванович сердится» успела выйти в прокат буквально за несколько месяцев до ее начала, став последней легкой комедией довоенной эпохи. А вот уже готовые к показу «Сердца четырех», отправили на полку. Стране было не до любовных перипетий.

Когда театр Вахтангова эвакуировали в Омск, Людмила могла остаться в Москве. Но выбрала путь своих коллег. Именно в эвакуации актрисе предложили роль, которая сделала ее настоящим символом военных лет. Писавший сценарий «Воздушного извозчика» Валентин Катаев и представить не мог, насколько важной окажется эта картина.
Съемки в Алма-Ате стали испытанием на прочность: сорокаградусные морозы, скудный паек, перебои с пленкой. Но едва Целиковская оказалась с готовым фильмом на передовой, то сразу поняла: все трудности были не зря. В промерзших землянках и полевых госпиталях артистку встречали как настоящего ангела. Ее Наташа Куликова стала для бойцов олицетворением той мирной жизни, за которую они сражались.

В одном из фронтовых госпиталей случился эпизод, который актриса вспоминала потом всю жизнь. К ней подошел совсем юный танкист с перебинтованной головой. Руки его дрожали, когда он доставал из потрепанного кармана гимнастерки пожелтевшую фотографию:
— Это вы… Из журнала «Огонек». Я ее в танке держал.
Девушка-санитарка шепнула Людмиле на ухо:
— Его экипаж сгорел. Он один выжил, да и то чудом.
Танкист, не замечая слез на своих щеках, продолжал:
— Когда снаряды рвутся, а в люках пламя, я на вас смотрел. И представлял: вот отобьемся, я вернусь домой, а там меня ждет жена, такая же красивая, как и вы.
— Обязательно будет!- обняла его, как брата Целиковская. — И непременно красивее меня!

ЦАРИЦА ПОД ПРИЦЕЛОМ
Мало кто знал тогда, что после оглушительного успеха «Воздушного извозчика» в судьбе самой артистки наступил перелом. Фильм, который обожали миллионы зрителей, словно поставил на ней невидимую печать.
Ходили разговоры, будто сам Сталин, обычно любивший веселые комедии, на этот раз мрачно заметил:
— Слишком уж жизнерадостно у них все получилось.
Возможно, его покоробило, что солдаты в письмах с фронта благодарили не только Верховного главнокомандующего, но и «свою Наташу». А может, просто не простил Целиковской того, что ее искреннее обаяние затмевало пропагандистские лозунги.

Так или иначе, но в следующей картине «Иван Грозный» Людмиле все же досталась роль царицы Анастасии Романовны. Правда, далась она тяжелым испытанием. В то время как на экранах артистка блистала в роли царственной особы, в реальности практически голодала. Особенно абсурдной была сцена пира:
— Эти золотые кубки с «вином»? Вода с акварелью, — вспоминала она позже. — А жареные лебеди? Папье-маше, сбрызнутое керосином, чтобы у нас даже мысли не возникло попробовать.
Сталин лично курировал проект, требуя ускорить съемки. Чиновники от кино буквально тряслись:
— Эйзенштейн! Вам же ясно сказали: к 7 ноября закончить!
Когда картина наконец вышла, реакция вождя оказалась неожиданной. Вторую серию запретили, назвав «исторически недостоверной». А Целиковскую…
Когда весь актерский состав «Ивана Грозного» получал Сталинскую премию, ее вычеркнули из списка личной резолюцией вождя: «Царицы такими не бывают!»

Несмотря на сталинскую немилость, Людмила продолжала сниматься. Ее Зиночка из «Повести о настоящем человеке» стала таким же символом послевоенного возрождения, каким была Наташа из «Воздушного извозчика» для фронтовиков. А в «Попрыгунье» она и вовсе всех удивила.
Из комедийной актрисы превратилась в тонкую драматическую исполнительницу. Сладкой местью всем недоброжелателям стала Венецианская награда за эту роль.
А вот проблемы с властью не закончились…
Однажды помощник Берии Богдан Кобулов пригласил Целиковскую на закрытый кинопоказ в особняк наркома. И у нее хватило наивности считать, что она едет именно смотреть кино. Все стало ясно, когда погасили свет. Мужчина тут же дал понять, зачем позвал Людмилу. Но встретил неожиданное сопротивление — звонкую оплеуху.

— Я не думала о последствиях, — признавалась Целиковская позже. — Просто врезала ему по морде и бросилась к выходу. Бежала по мраморным лестницам, ожидая выстрела в спину…
Чудом расплаты не последовало. Возможно, Берия счел инцидент недостойным внимания. Или Кобулов постеснялся признаться, что получил «по морде». Через несколько лет его расстреляют как «бериевского прихвостня».