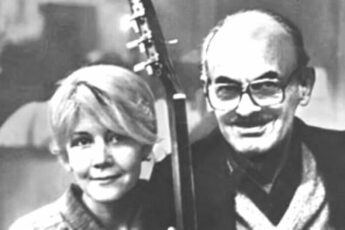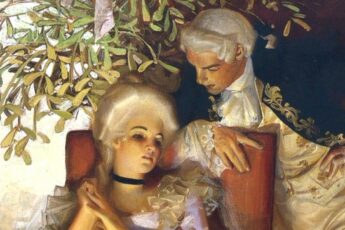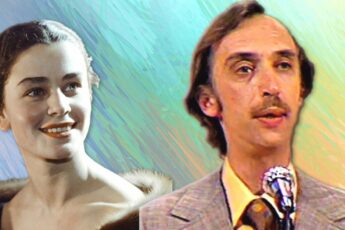Плакала мать, да ничего сделать было нельзя. Суровая знахарка сразу сказала – лучше в печку! И, обмирая от страха, женщина дала свое согласие. Боязно было, но старуха настояла. Припечённые дети имеют шанс.

В русских сказках нередко можно прочесть, как злая Баба Яга сажала малых детей на лопату. И отправляла в печь. Разумеется, не просто так. Конечно, Баба Яга иногда даже помогала персонажам русских сказок, но порой вела себя, как представительница сил зла… Вот против этих самых злых сил и был придуман обряд «припекания».
Когда многие явления еще не умели объяснять, то находили ответы в поверьях. В старину считали, что, если приключилась с человеком какая хворь, так это зло его испытывает. Может одолеть, а может и отступить. Поэтому шептали заговоры над больными, звали в избу не только лекарей, но и знахарок. Не одними только снадобьями лечились, но и «правильными» словами.
Когда младенцы или совсем маленькие дети начинали хворать, то пытались их спасти разными способами. В том числе, и с помощью «припекания». В каждом доме стояла большая печь, она была кормилицей и давала тепло. Без печи невозможно себе было представить простой крестьянский быт. Вот и лопаты – большие, широкие, чтобы вытаскивать блюда – в доме обязательно имелись.

Считалось, что так можно обмануть злые силы. Посадить ребенка на лопату и отправить внутрь печи. Разумеется, когда в ней уже не горел огонь, но печь была еще теплой! Показывали силам зла, что ребенок словно и не важен для этой семьи. Даже запечь его могут, как какая-нибудь Баба Яга… И тогда силы должны были отступить, оставить малыша. Зачем зря его терзать, раз семья даже не расстроится?
Впрочем, у припекания была и другая цель. Самая буквальная – исцелить детей. Рожденных слабыми или недоношенными тоже отправляли внутрь теплой печки. В современном мире есть специальные кювезы для этих целей, там поддерживается оптимальная температура для малышей…
А в пятнадцатом веке – какой кювез? Вот эту функцию и выполняла печка. Младенцу тепло, словно в материнской утробе. Там он «дозревал», «допекался». Ну а дальше на вся была воля Божья. Многих малышей, действительно, выхаживали с помощью русской печки. Впрочем, не только русской! Подобный обычай встречался и у других славянских народов.
Если же малец года-двух от роду, то и его могли отправить в печь, когда сильно хворал. И здесь уже важна была не роль тепла (чтобы просто согреть), а сам ритуал. Печь в доме почитали, с ней прощались, когда надолго уходили из дома. У печи собирались в студеную зиму, на ней спали старики – самые важные люди в доме, к чьей мудрости и совету прислушивались. Печь была почти что живым существом.
«Матушка, печка, помоги», — обращались к ней молодые матери, чьи дети начинали плакать и хворать.

В некоторых селах Владимирской губернии было принято припекать всех новорожденных младенцев, без исключения. Для большей силы, для лучшего роста. На рассвете собирали воду из трех колодцев и с ее помощью замешивали тесто.
На хлебной лопате, на тесте, трижды отправляли малыша в печь. Присутствовали при этом ритуале только женщины! Могли собраться родственницы, подруги, обязательно находилась самая старая женщина в доме. Знахарка направляла лопату…
«Собачья старость, вон!» — говорили при этом. Называли таким образом хорошо всем известный р а х и т.
Кстати, есть любопытная версия, что и сказка о злой старухе Бабе Яге родилась от этого обряда. Подглядели детишки постарше, как женщина в возрасте кладет младенца в печь, вот и разыгралось у них воображение. Передали «новость» другим детям, а потом и пошла молва про старуху…
Одно было важное исключение: при «припекании» не разрешали присутствовать незамужним или старым девам. С последними вообще не слишком церемонились в деревнях. Часто «непетое волосье» — так называли тех, к кому никто не посватался – считали девушками с нехорошим глазом.
Дескать, раз их собственная женская судьба не сложилась, то могут пожелать другим что-то плохое. Старых дев не подпускали к младенцам, боялись их «глаза».
«Но ведь на Руси было распространено христианство с 988 года», — скажете вы. И будете правы!
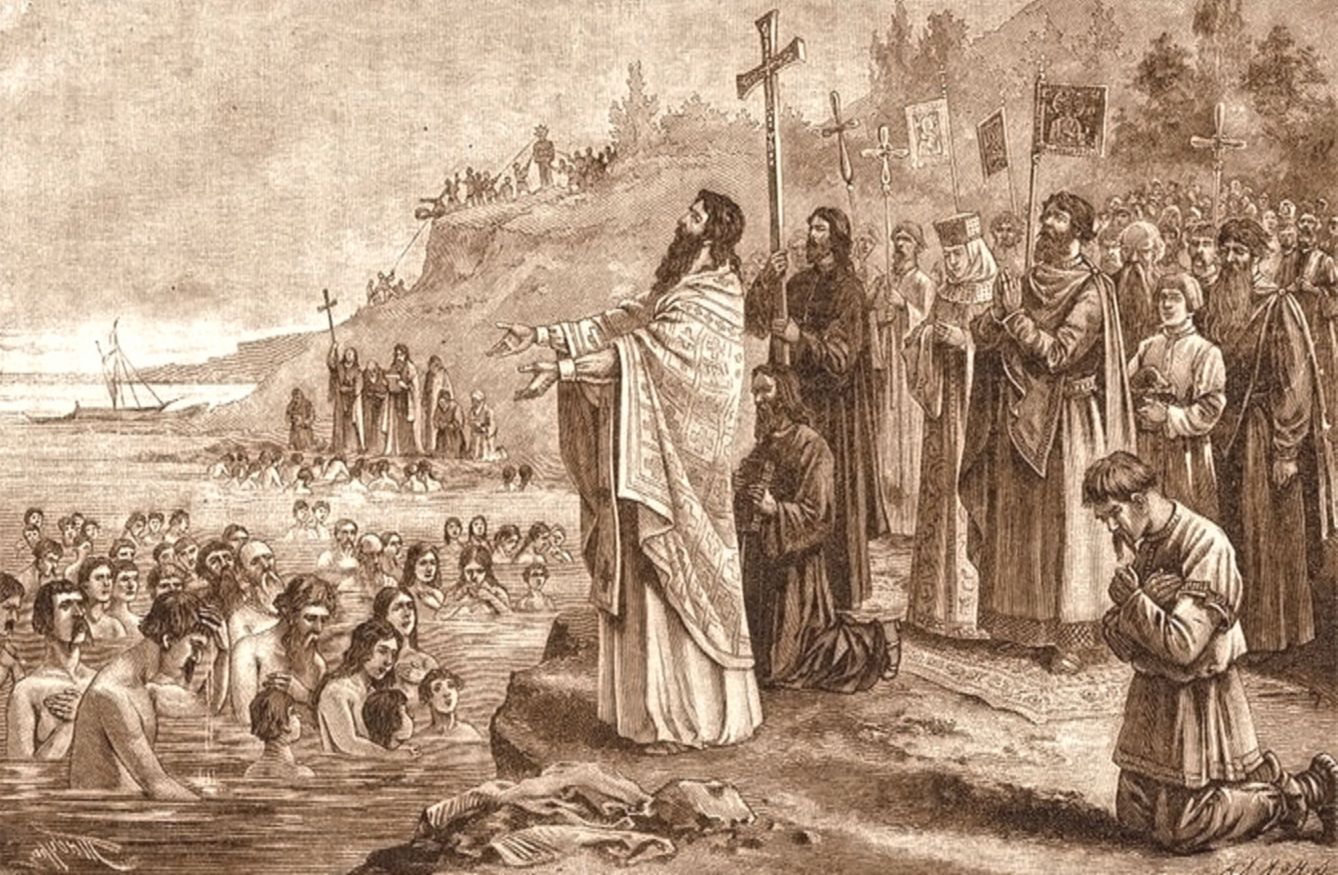
Князь Владимир привез из Византии священников и красавицу-жену. Крестил Русь, сам принял веру. Поплыли по воде сверженные деревянные идолы… Да только в деревнях еще очень долго хранили прежние обычаи. И молились не только Богу, но и древним славянским божествам.
Проявлялось это даже в именах. Крестить могли ребенка по-христиански, дать ему имя святого, чтобы стал его небесным покровителем… А дома называть его иначе: Белояр, Богумил, Горисвет… Найдена, Злата, Лада или Добродея – так могли звать девочек. И у них, опять же, имелись крестильные имена.
Трижды стучали по столу, запрещали стоять на пороге, трижды плевали через левое плечо… И продолжают это делать по сию пору. Потому что языческих традиций, которые мы невольно соблюдаем и по сей день, великое множество! Даже принятие веры не смогло этого изменить.
А «сжечь болезнь и худобу» продолжали на протяжении нескольких сотен лет. Русский этнограф Алексей Смирнов, который особенно интересовался семейными традициями и обрядами, в 1848 году писал, что наблюдал за «припеканием» в одном из вологодских сел. И в Сибирь с первопроходцами этот обычай тоже пришел! И дальше, на Камчатку!

Иногда младенца в самом прямом смысле обмазывали сырым тестом и только потом отправляли в печку. Иногда лишь символически мазали тестом лоб и щеки.
Разыгрывались целые представления! В полночь, когда все уже спали, оставалась на кухне женщина с ребенком. Входила свекровь или бабушка, и спрашивала:
— Что ты делаешь?
— Да вот, хлеб пеку.
— Ну, пеки, пеки, — махала рукой свекровь и уходила. Словно и не замечала, что на лопате малыш.
Бывало, что «припекание» использовали в целом от избавления от горя или накопившихся бед. Тогда сценка могла быть другой, и в ней участвовала женщина с ребенком и знахарка.
— Как у тебя в избе? – спрашивала знахарка.
— Да вот беда, — отвечала женщина, — все плохо, прикрепилось ко мне горе-горькое.
— А ты выкинь его, — предлагала знахарка, — с ребенком запеки, оно и пропадет.
И дальше был тот же ритуал с лопатой.

Припеченные дети считались крепче, чем другие. Иногда хворь и правда выходила, а беда таяла на глазах. Другие считали, что причина была в силе убеждения. Знали люди, что это верный способ борьбы с недугами и горем, а потому настраивали себя на верный лад. И всё у них получалось!