На свадьбе невеста не поднимала заплаканных глаз.
— Бедная, — шелестело за ее спиной, — не забыла своего преступника!
До сих пор Москва помнила о том скандале, что разразился в начале 1825 года. Композитора Алябьева, уже известного своими сочинениями, обвинили в страшном преступлении. Уже второй год он томился в крепости, а его прекрасная невеста…шла к алтарю с другим.

В семье тобольского губернатора Александра Васильевича Алябьева рождались исключительно одаренные дети. Младшему сыну, Сашеньке Алябьеву, при рождении улыбнулась судьба: мальчик появился на свет с удивительным музыкальным талантом. Он легко насвистывал раз услышанные песенки и рано, едва освоив матушкин клавесин, стал подбирать к ним мелодии…
Отец не препятствовал увлечению сына: сам любивший искусство, он построил в Тобольске первый в Сибири театр и поощрял актеров и музыкантов выступать на сцене.
Однако занятие музыкой и только музыкой не считалось почётным для дворянина. Александр Васильевич позаботился о том, чтобы дать юному Саше хорошее образование в Петербурге. А в 1801 году, когда мальчику исполнилось 14 лет, устроил его на низшую чиновничью должность в Берг-коллегию, где решались все горнопромышленные дела государства.
Правда, построить успешную карьеру Саше так и не удалось. В 1812 году, когда разразилась Отечественная война, он не смог остаться в стороне. Сражался с врагом, тесня его из России, дошёл до Дрездена, бился под Лейпцигом, брал Париж. После победы, оправившись от полученных ранений, остался на военной службе в Петербурге.
Отпустить воспоминания о военных годах оказалось непросто. Залихватские гусарские песни, сентиментальные романсы словно сами рождались на свет:
«Один еще денек,
И здесь меня не будет,
Навеки расстаюсь
Я с милой стороной,
Навеки, может быть,
Мой друг меня забудет,
И мне осталось жить
Надеждою одной»…

В 1823 году Александр Алябьев, выйдя в отставку в чине подполковника, перебрался в Москву и полностью посвятил себя любимому делу. Написал оперу, которая была поставлена на сцене и имела большой успех, готовил торжественную музыку к долгожданному открытию Большого театра в январе 1825 года…
Снежная зима захватила Алябьева и закрутила. На сезон в большой город из своих имений съезжались его старые товарищи. Приезжали целыми семействами, привозя жён, сестёр и юных дочерей, только готовившихся вступить в большой свет. На одном из балов Алябьев встретил нежную Катеньку и был совершенно ею покорён.
Младшая сестра бравого вояки Григория Римского-Корсакова, известного своей удалью и взрывным нравом, ничуть не походила на брата. Тихая и мягкая, она очаровывала теплотой, так несвойственной легкомысленным светским барышням.
И нежно сжимая в танце маленькую руку, Александр Александрович твёрдо уверился, что его женитьба — дело решённое. На излёте сезона он рассчитывал сделать предложение, покончив с холостяцкой жизнью. Однако обстоятельства обернулись против.
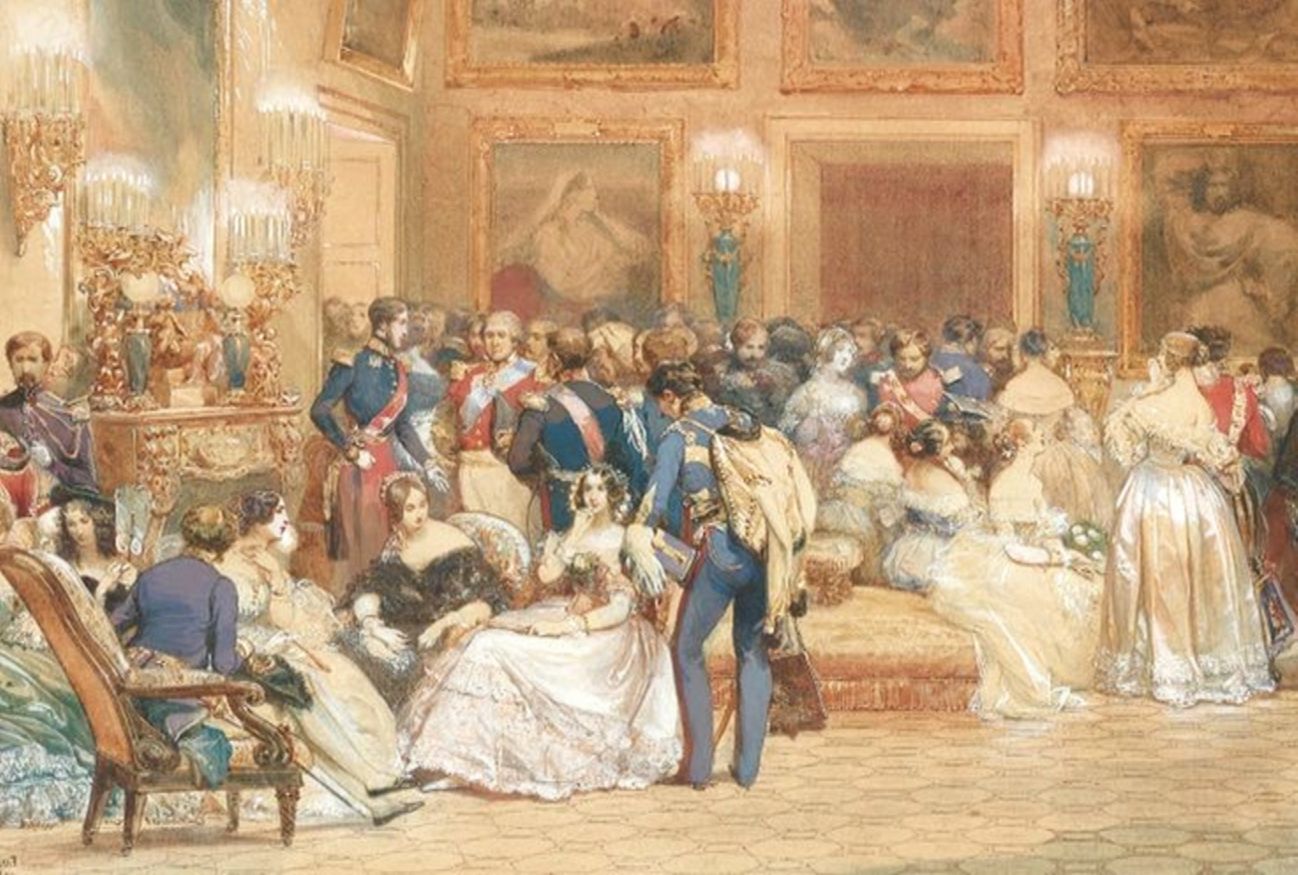
24 февраля 1825 года Алябьев собирался остаться дома. К вечеру должны были приехать гости — поужинать и скоротать время за игрой. Буря разразилась за карточным столом. Отставной полковник, воронежский помещик Тимофей Времев крупно проигрался и отказался уплачивать долги, обвинив игроков в жульничестве.
Хотя сам Алябьев, по слухам, за столом не сидел, именно на него, как на хозяина дома, могла пасть тень подозрения. Обозлились и оскорбленные игроки. Начался безобразный скандал. Получив вызов на дуэль от Алябьева, Времев отказался от честного поединка, а потому был награждён оплеухами и грубо выставлен за дверь.
Через несколько дней Тимофея Времева нашли на постоялом дворе на выезде из Москвы. По городу поползли мрачные слухи. Одни говорили, будто бы Алябьев так отходил помещика, что бедняга преставился. Другие, что шайка под предводительством Алябьева настигла в страхе бежавшего Времева и жестоко расправилась с разоблачителем.

Страшная история, обрастая новыми подробностями, дошла до обер-полицмейстера, который через 11 дней после похорон Времёва приказал вырыть тело и провести новое освидетельствование. Изначальный диагноз — апоплексический удар, который подтверждался показаниями слуги Времева, Андрея, описывавшего, как рано утром его разбудил барин и приказал проводить себя на двор для телесной нужды, где внезапно упал и умер, — был пересмотрен.
И хотя лекари не спешили опровергать диагноз, в дело вступила государственная машина. Обер-полицмейстер доложился московскому генерал-губернатору, а тот отправил письмо самому государю, будто бы в Москве было раскрыто тайное общество шулеров, запятнавших руки кровью. Алябьев оказался обречён.
Композитора и гостей, бывших на вечере в тот злополучный день, задержали. Разбирательство шло медленно, неспешно. Вероятно, в конце концов, разобравшись в ошибке, дело бы застопорили и погребли под десятками других, но в декабре 1825 года произошло восстание. После этого всё, что так или иначе было связано с преступлениями дворянства, перешло под особый контроль.
Лишь 20 января 1828 года Александру Алябьеву объявили приговор: он был оправдан по обвинению в убийстве, но за «допущение запрещенной игры, пьянство и побои» лишён дворянства и отправлен в ссылку в Тобольск.
На север Алябьев уезжал тяжелобольным человеком. Три года казематов подточили его здоровье: он постепенно терял зрение, отказывали застуженные ноги. Однако, куда сильнее телесной, грызла душевная боль: Катенька не дождалась — вышла замуж за другого.

Жизнь в родном Тобольске пошла своим чередом: нашлись старые знакомые, появились новые связи. Алябьев обжился, организовал симфонический оркестр, выступал с концертами как дирижёр и пианист. «Соловей», «Вечерний звон», «Ясны очи» пела вся Сибирь.
Слава композитора оказалась столь велика, а поведение так примерно, что Алябьеву удалось выхлопотать поездку на Кавказ для поправления здоровья. Именно там в 1832 году Александр Алябьев встретил свою давнюю любовь — милую Катеньку, прибывшую на отдых вместе с мужем.
Всё давно уже должно было отболеть и отгореть, но отчего-то душа трепетала как у мальчишки. Алябьев не мог отвести взгляда от родного лица.
Первый разговор вышел скомканным и неловким. А потом Катя приехала сама, рухнула на колени, заливаясь слезами и целуя руки. Рассказала, как после ареста Алябьева, за Римскими-Корсаковыми был установлен негласный надзор. Как в конце 1825 года всем стало плохо и страшно: любимца семьи — вертопраха Гришеньку, и без того уже заподозренного в вольнодумстве, едва не обвинили в государственной измене.
Дабы поправить положение Римских-Корсаковых в свете, Катю выдали замуж за Андрея Павловича Офросимова, сына знаменитой на всю Москву генеральши Настасьи Дмитриевны, державшей мнение общества в ежовых рукавицах. Брак без любви не задался: Катя покорно терпела мужа — но и только. Ни чувств, ни счастья, ни детей…Слушая печальный рассказ, Алябьев не смог остаться безучастным.

Тайные встречи, записки, писанные торопливым угловатым почерком, музыка, которая говорила вместо слов. Романс «Тайна» Алябьев посвятил Катеньке:
«Я не скажу, я не признаюсь,
В чём тайна вечная моя,
Её я скрыть от всех стараюсь,
Боюсь доверчивости я.
Вас не займет она, не тронет,
Как скучной повести рассказ;
Так пусть-же навсегда потонет
Она в душе моей от вас.
Люблю… невольный звук, случайной…
Не верьте… небо я молю
Навек оставить грустной тайной:
Кого я пламенно люблю!»
«Я…Вас…люблю!» — слышала Катя главную тайну Алябьева. Каждая строфа в акростихе шептала ей об этом.
Жарким летом в Пятигорске вновь всколыхнулось былое, захватив обоих. Тем больнее оказалось расставаться: рискнуть всем и оставить мужа ради Алябьева, Катя не могла. Для лишённого дворянства композитора, которому едва смягчили условия ссылки, открытый роман с чужой женой мог обернуться возвращением в холодный Тобольск.

Прощание вышло мучительным для обоих. Катя уезжала в Москву, Алябьев, которому изменили место ссылки, — в Оренбург. Лишь через несколько лет ему удалось добиться перевода в Московскую губернию. Он вновь встретился с любимой в 1839 году.
В Катеньке осталось мало прежнего: под глазами разбежались тонкие морщинки, в волосах поблёскивали первые нити седины, появившиеся после похорон мужа. Она вот-вот должна была перешагнуть сорокалетний рубеж, а в душе — только пустота.
Встреча стала для обоих спасением: в августе 1840 года Александр Алябьев и Екатерина Офросимова тихо обвенчались в небольшой Троицкой церкви села Рязанцы. Вместе им было отмерено прожить 11 счастливых лет.
Сначала Алябьевы обосновались в Коломне, затем перебрались в Москву. В доме Катеньки на Новинском бульваре Александр Александрович целиком отдался искусству, сочиняя музыку для опер и романсов. В начале 1851 года, на 64-м году жизни, Александра Алябьева не стало. Через три года за ним последовала и Катя, пронесшая любовь к мужу через всю жизнь.






