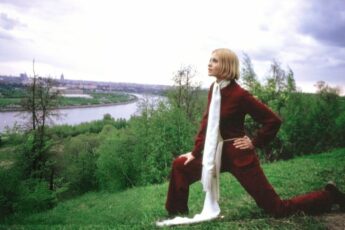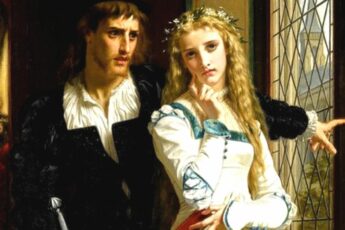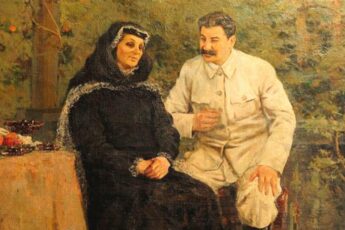Несчастные красавицы прятались, где могли. В маленькой хижине барин держал для своих утех и важных гостей более 30 крепостных.
Лев Дмитриевич Измайлов, родившийся в 1764 году в известном дворянском роде, начал свою карьеру как большинство знатных юношей той эпохи — со службы в гвардии. Род Измайловых считался одним из древних в Российской империи, и молодой Лев, обладая большими связями при дворе, довольно быстро продвинулся в военной и придворной иерархии.
К 1814 году он уже дорос до чина генерал-лейтенанта. Но не воинские успехи принесли ему посмертную славу: в народной памяти и записях современников он остался помещиком-самодуром, чьи выходки и жестокое обращение с крепостными поражали даже искушённую аристократию.

О детстве и ранней службе Измайлова сведений немного. Воспитывал его дядя, и он же оставил племяннику наследство. Однако позднее сообщалось, что в имении Льва Дмитриевича не нашли ни единой книжонки. С юности он якобы отличался задиристым нравом. В 7 лет в 1770 году он вступил в службу, в гвардейский Семеновский полк.
Некоторые хроники судачат, что даже в «золотой век» Екатерининского правления Лев Дмитриевич умудрялся «выделяться» среди сверстников грубыми шутками и бравадой. Большей части светского общества он запомнился именно как самоуверенный помещик, чей конёк — чванство и прихоти по отношению к крестьянам.
23 марта 1802 года император Александр I писал тульскому гражданскому губернатору Иванову:
До сведения моего дошло, что отставной генерал-майор Лев Измайлов … ведя распутную и всем порокам отверзтую жизнь, приносит любострастию своему самые постыдные и для крестьян утеснительные жертвы. Я поручаю вам о справедливости сих слухов разведать, без огласки, и мне с достоверностью донести. — Степан Тимофеевич Славутинский, «Генерал Измайлов и его дворня».
Лев Дмитриевич был очень богат. Он рано получил в полное свое распоряжение большие имения. Власть, деньги и высокое положение в обществе сделали свое дело. Ему сходили с рук проделки весьма не невинного характера.

Владея обширными поместьями, Лев Дмитриевич обожал демонстрировать перед гостями «роскошь» и собственную власть над людьми.
Поговаривали, он был способен разорять своё хозяйство ради показных балов и вечеров, где устраивались нелепые сцены: крепостных он принуждал играть «театральные постановки», не щадя их здоровья и не оплачивая труд. Для особо прихотливых загульных выездов Измайлов мог выстроить «живую сцену» из крестьян, заставляя их замереть на холоде.
В следственном деле упоминается случай с крепостным Гуськом, который собирал девок на «генеральские игрища». Однажды Измайлов затеял такое игрище в принадлежавшем ему селе Жмурове. Подумав, что девок мало, Измайлов отправил Гуська в свою же деревню Кашину за другими девушками. Несчастные красавицы прятались где могли.
Никто не хотел идти на эти генеральские игрища, где творились бесчинства. Один храбрый крестьянин Евдоким Денисов и вовсе не выдал девушку, спрятав её у себя, за что и был наказан. Его хату и его самого сожгли заживо по приказу «генерала», а его несчастную жену-старушку так сильно высекли, что та скончалась.
В розыск были объявлены даже трое его внучат. Подумав, что этого мало, Измайлов приказал высечь каждого третьего крестьянина и каждую десятую женщину.
«И не было меры в истязаниях. У иных после наказаний спины гнили по нескольку месяцев, иные, все оттого же, долго-долго чахли в хитровщинском госпитале, иные умирали преждевременно. Недаром в Измайловской дворне весьма мало было стариков.»
Подтверждённых документов на этот счёт немного, но кое-где в губернских архивах встречаются жалобы, что «господин генерал Измайлов производит насильственное отлучение крестьян от работ ради дурачеств и игрищ».

Если верить слухам, его крепостные жили в страхе, ибо Лев Дмитриевич известен был внезапными наказаниями: мог ударить нагайкой за малейшее «непочтение» или распорядиться, чтоб «провинившегося» обрили наголо, если барину вдруг показалось, что тот «не так поклонился».
Над дворовыми женщинами он, по пересудам, тоже дозволял себе вольности, а для мужского пола завёл едва ли не «карательную роту», где обучал их «казарменной дисциплине».
Он держал взаперти гарем из молодых крестьянок. Эта полусгнившая хижина была примерно 63 квадратных аршина, то есть около 44 квадратных метров. Там помещались 34 женщины. Своим гостям он предлагал отведать лучшего вина и крепостных.
Стены и потолок покрыты сажею, а несчастные обитательницы — рубищами и лохмотьями. Каждая женщина имеет, за исключением необходимого прохода, не более одного квадратного аршина для помещения. А на содержание пищею выдается каждой по одному пуду ржаной муки на месяц».
Сюда отсылаются также за наказание и другие женщины, которые и употребляются в разные работы. В другой хижине на дворе тоже на пространстве двадцати пяти с половиною квадратных аршин помещаются шестеро мужчин и двенадцать женщин. …
В эти богадельни попадали преимущественно или захиревшие в своем тереме при барском доме, или надоевшие барину, или же провинившиеся перед ним бывшие его наложницы, женщины несколько избалованные содержанием во время своего «фавору». Легко себе представить, как невыносимо тяжко было этим несчастным коротать свою горькую жизнь в ужасных жилищах «нищеты и бедствия».
Нимфодора Хорошевская, или просто Нимфа, родилась когда её мать держали взаперти в барском доме. В 14 лет Нимфа была приведена к Измайлову. Позже он стал обвинять её в утрате чистоты, забывая, что сам же причинил ей вред ещё в детстве.
После допроса её жестоко наказали: плетью, арапником, и в течение двух дней избили семь раз. После этого она три месяца провела в запертом гареме, оставаясь подле барина. Когда он приревновал её к кондитеру, того отправили в солдаты, а Нимфу снова избили и приковали к стене на трое суток.

Затем её сослали на завод, где она пробыла семь лет. Там ей остригли волосы, наказывали за малейшие провинности, даже заставили носить рогатку. Позже её перевели на суконную фабрику и пытались выдать за мужика, но за отказ — заковали на трое суток. В конце концов, сослали в деревню Кудашеву, где она, быть может, смогла немного передохнуть от своей каторжной судьбы.
При этом Лев Дмитриевич, говорят, любил напускать на себя роль «благородного барина»: устраивал пышные приёмы, на которых поражал гостей богатым столом, а крепостных поголовно наряжал в «театрально-раззолоченные костюмы», будто выставляя их напоказ. Он любил все русское и лишь немного жалуя англичан.
Некоторые модные дамы из столицы умилялись «колоритной роскошью» жизни генерала Измайлова, не задумываясь, какой ценой она создавалась. Несколько упоминали, что «вся помещичья слава господина Измайлова держится на страхе и показухе, а крестьяне вконец измотаны его диковинными капризами».
Среди многочисленных дворовых Хитровщинской усадьбы находились и внебрачные дети самого Измайлова. Один из них, Николай Нагаев, рождённый от дворовой девушки, до семи лет воспитывался как настоящий барчонок — с няньками, кормилицами и привилегиями господского дома. Сам Измайлов публично признавал его своим сыном.
Однако внезапно всё изменилось: Николая выгнали из дома и назначили писарем при усадебной канцелярии. С этого момента он разделил тяжёлую участь всех хитровщинских дворовых, полную унижений и страданий. Именно это превратило его в одного из самых рьяных и неустанных доносчиков на собственного отца-помещика.
Когда его стала одолевать «благородная болезнь», подагра, то он засел он дома, наслаждаясь деревенской жизнью. Только вот его характер стал ещё более жестоким.
В старости, уже после войны 1812 года, он якобы углубился в религиозное самобичевание: сам строил сельские часовни, но при этом по-прежнему оставался тираном для своих людей, придерживаясь принципа «власть дает право распоряжаться чужими жизнями».
Когда в 1834 году Лев Дмитриевич скончался, лишь немногие дворяне прибыли на поминки, а крестьяне, по словам одного местного священника, «облегчённо вздохнули, чем плакали».