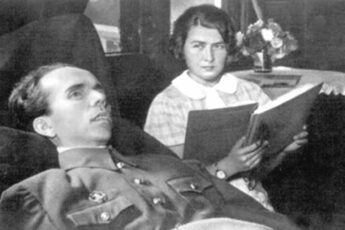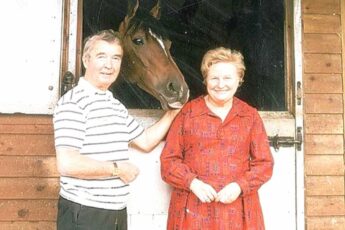На протяжении без малого двух веков гости прославленной Галереи красавиц, что находится в мюнхенском дворце Нимфенбург, приходят в неизменный восторг от дивного портрета юной особы, закутанной в меха.
Служители музея охотно делятся с посетителями историей этого шедевра: на нем, по их словам, запечатлена молодая баронесса Амалия фон Крюденер. Сей живописный образ был написан искусной кистью Йозефа Штилера, придворного портретиста, творившего по высочайшему повелению самого короля Людвига I.
Венценосный поклонник прекрасного, этот государь, как известно, особенно любил украшать свои чертоги изображениями первейших красавиц того времени. И все же мало кто из зрителей, любуясь пленительным девичьим ликом на портрете, догадывается, сколь удивительная история любви скрывается за ним…

Прелестной Амалии, урожденной графине Лерхенфельд, едва исполнилось пятнадцать, когда судьба впервые свела ее с девятнадцатилетним Федором Тютчевым.
Произошло сие знаменательное событие в Мюнхене, куда будущее светило русской поэзии прибыло, дабы определиться на дипломатическую службу в качестве атташе при российском посольстве.
Познакомиться им довелось благодаря Максимилиану, брату Амалии и новому приятелю Тютчева. Вскоре обаятельный русский дипломат, которого друзья-немцы ласково прозвали Теодором, зачастил в гостеприимный дом семейства Лерхенфельдов.
Родные Максимилиана быстро смекнули, кто на самом деле привлекает сюда галантного кавалера из далекой северной страны — ну конечно же, хорошенькая Амалия!
С первого взгляда очарованный ангельской красотой девушки, Федор Иванович без памяти влюбился. Два года, проведенные рядом с Амалией, стали для него настоящим подарком судьбы, волшебным сном наяву.
Их свидания были полны неги и волшебства, они упивались любовью и поэзией. Молодой поэт не представлял своей жизни без возлюбленной и мечтал назвать ее своей женой. Увы, высшие силы распорядились иначе…

Только спустя время Тютчев узнал, какая печальная тайна омрачала жизнь его милой Амалии
Суть заключалась в ее происхождении: она была рождена вне брака от союза графа Максимилиана Лерхенфельда-старшего и княгини Терезы Турн-унд-Таксис. Отец умер, когда девочке пошел всего второй годик, но перед смертью завещал супруге Белле воспитать малютку как родную и дать ей свою фамилию.
Белла выполнила волю покойного, однако во дворец Амалию вернули уже подростком. И хотя с 1823 года ей официально разрешили именоваться графиней Лерхенфельд, прав на фамильный герб и генеалогию она не получила.
От этого бесправного положения бедняжку мог спасти лишь брак с влиятельным человеком, который открыл бы перед ней двери в высшее общество.
Неудивительно, что когда 37-летний барон Александр фон Крюденер, занимавший пост первого секретаря российского представительства, проявил интерес к молодой графине, обе ее матери — родная и приемная — увидели в этом уникальный шанс устроить судьбу девушки.
Они употребили все свое влияние, чтобы убедить Амалию принять предложение барона. Сама девушка, послушная воле старших, тоже рассудила, что лучшей партии ей не найти.
Для всех было очевидно, что этот брак просто взаимовыгодная сделка: Амалия получала статус замужней дамы, а Крюденер связи при немецком дворе, столь необходимые честолюбивому дипломату для дальнейшей карьеры. Разница в возрасте между женихом и невестой в двадцать два года никого не беспокоила.

31 августа 1825 года брачный контракт между бароном Александром фон Крюденером и графиней Амалией Лерхенфельд был подписан. Для обоих супругов эта печать на документе стала своего рода пропуском в новую жизнь, подарившую им все, о чем они мечтали. Все, кроме любви…
Весть о предстоящей свадьбе Амалии стала для Федора Тютчева страшным ударом. В отчаянии молодой человек хотел даже покинуть этот мир! Сохранились воспоминания камердинера поэта Николая Хлопова, в которых говорится, что 19 января 1825 года жизни его господина «грозила опасность от его нескромности».
По всей видимости, речь шла о дуэли, которой Тютчев в последний момент сумел избежать. Боль своей жестоко раненой души он излил в стихотворении «Я помню время золотое».
Спустя год Федор Иванович и сам вступил в брак. Женщину звали Элеонора Петерсон, и она была вдовой русского дипломата. Эта чудесная женщина окружила поэта такой безграничной любовью и заботой, словно стремясь восполнить то, чего он был лишен из-за «бессердечной» Амалии.
Нежность жены помогла Тютчеву постепенно оправиться от жестокого удара. И все же память о пылкой юношеской любви навсегда осталась в его сердце. Он не раз встречался с Амалией в свете, и эти мимолетные встречи бередили едва зажившие раны.

Весной 1836-го супруги Крюденер отправились в Петербург, так как барон получил повышение по службе. С ними вместе Федор Иванович переслал своему прежнему коллеге князю Гагарину книгу со стихотворениями, среди которых было и пронзительное «Я помню время золотое», посвященное баронессе Крюденер.
Гагарин тут же передал поэтические опусы Тютчева в журнал «Современник», издаваемый Александром Пушкиным. Так, благодаря любимой, наш герой обрел известность и признание в литературных кругах.
Тем временем баронесса Крюденер покоряла высший свет Петербурга. Своенравная и дерзкая, она, подобно своей матери, мало считалась с условностями и предрассудками. Сорокалетняя Амалия не побоялась бросить вызов обществу, родив внебрачного сына Николо.
Счастливым отцом мальчика оказался 29-летний граф Николай Адлерберг, состоявший в фаворе у самого императора. Лишь близость ко двору да влияние новоиспеченного возлюбленного спасли мадам Крюденер от неминуемого скандала и публичного порицания.
Вскоре после этого, в 1852 году, барон Александр фон Крюденер отошел в мир иной. Однако прелестная вдовушка недолго горевала — спустя какие-то три года она уже сочеталась законным браком с отцом своего ребенка.
Но как бы ни складывалась личная жизнь Амалии, она никогда не забывала своего Теодора — русского дипломата и поэта Федора Тютчева. При любой возможности графиня пускала в ход все свое влияние, дабы помочь другу юности в затруднительных ситуациях.
«Из всех известных мне людей в мире лишь по отношению к ней одной я, пожалуй, почти без внутреннего сопротивления готов чувствовать себя чем-то обязанным», — признавался Тютчев с горькой усмешкой.

Их последняя встреча состоялась в марте 1873-го, всего за два месяца до последнего дня поэта. Узнав о его тяжелой болезни, Амалия специально приехала в Петербург, чтобы проститься с Федором Ивановичем.
«Ах, какое жгучее волнение охватило меня вчера при свидании с графиней Адлерберг, моей милой Амалией Крюденер! Подумать только — она пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и явилась дать мне прощальный поцелуй.
Сама Прекрасная Дама моей юности предстала предо мной, дабы в моем лице поцеловать лучшие годы своей жизни!» — делился переполнявшими его чувствами растроганный Тютчев.
Эта встреча удивительным образом отразила и подытожила всю историю их удивительных отношений.
Сама Амалия пережила Тютчева на 15 лет. Она ушла из этого мира 21 июня 1888 года в баварском городке Тегернзее и упокоилась на местном погосте. Безутешный граф Николай построил на берегу озера виллу, с террасы которой мог всегда видеть место последнего упокоения своей обожаемой супруги.
По легенде, он даже включил в купчую на дом особое условие, гласившее, что всякий, кто посмеет застройками закрыть вид из окон на могилу Амалии, будет строго наказан. С тех пор ни один владелец поместья не решался нарушить волю графа.