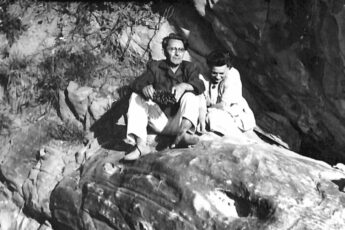— Мне плохо,- хрипел Голдаев, прижимая ладонь к виску. — Голова раскалывается, тошнит… А вместо таблеток и тишины твоя истерика.
— Напился и весь вечер проговорил с какими-то бабами! — кричала Инна.
Она рывком вывернула его карманы, лихорадочно ощупывая подкладку.
— Записочки ищешь? — усмехнулся он. — Черт возьми, я славно в дурном водевиле…

*

ГОРЬКИЕ УРОКИ
Москва встретила Инну Ульянову с прохладной сдержанностью.
— Да брось ты свою лирику. Инка. В Маяковку иди, там стены дышат историей. Говорят, там в гримерках до сих пор тень Мейерхольда бродит…,- картинно затягиваясь «Космосом», буркнул один из ее приятелей.
Но ее манила «Таганка». Не парадный фасад с громкими именами, хотя в те годы даже солидные дамы из Госплана тайком вздыхали по Любимову. А та сокровенная жизнь, что билась в его стенах.
Она впервые ощутила это прошлой зимой, случайно зайдя в театр. В фойе пахло свежей краской и старыми книгами, а на сцене творилось нечто, не поддающееся определению: не репетиция, а стихийный бунт. Актеры не изображали жизнь, они проживали ее здесь и сейчас, срывая голоса в хрип и стирая в кровь колени.

Любимов взял ее почти не глядя. Просто кивнул, когда она назвала фамилию.
— Будет время, попробуешь что-нибудь, — сказал равнодушно и растворился в полумраке зрительного зала.
Эти «что-нибудь» оказались унизительно малы. Роли если и доставались, то превратили Ульянову в вечную тень: «Выйди, постой у окна», «Прочитай письмо за сценой».
— Какого черта уехала из Ленинграда. Сейчас бы уже примой была, — злилась на себя Инна, стоя за кулисами и глядя, как другие выходят на поклон.
ТАНГО НА РАЗВАЛИНАХ
Тем временем в жизни нашей героини появился Борис Голдаев — красавец мужчина, давно уже считавшийся главным сердцеедом Таганки.
Коллеги-мужчины завидовали его легкости, а женщины теряли голову от бархатного баритона и той особой манеры держаться, когда даже обычное «здравствуйте» звучало как признание в любви.

Молоденькие актрисы краснели, когда он проходил мимо. Более опытные находили тысячу поводов зайти в его гримерку. И только одна Ульянова демонстративно не замечала местного Дон Жуана. Возможно, именно это и зацепило его самолюбие.
Их близкое знакомство произошло в тесном коридоре за кулисами, где Борис с театральным изяществом посторонился, ожидая восхищенного взгляда. Но вместо этого услышал:
— Не надо играть джентльмена. Настоящих я вижу каждый день на сцене.
Так началась их история. Через два года они поженились. А еще через полтора развелись. В редком интервью уже немолодой Голдаев вспоминал, что их окончательный разрыв случился после вечеринки в Доме кино, где он всего лишь потанцевал со своей партнершей по «Анне Карениной» Анастасией Вертинской.
— Мне плохо,- хрипел Голдаев, прижимая ладонь к виску. — Голова раскалывается, тошнит… А вместо таблеток и тишины твоя истерика.
— Напился и весь вечер проговорил с какими-то бабами! — кричала Инна.
Она рывком вывернула его карманы, лихорадочно ощупывая подкладку.
— Записочки ищешь? — усмехнулся он. — Черт возьми, я славно в дурном водевиле…

Наутро Борис собрал вещи и ушел. Скандалистка же только через неделю одиночества осознала всю глубину потери. Она названивала в театральное общежитие по три раза на дню. Вахтерша сначала снисходительно кричала в трубку: «Голдаева нет!», потом начала бурчать: «Опять ваша сумасшедшая жена!» А на седьмой день просто молча бросала трубку.
Когда на очередную попытку Борис все же ответил, в его голосе звучала усталая снисходительность:
— Инна, хватит. Мы же оба прекрасно понимаем, этот брак изначально был ошибкой. Ты хотела стабильности, я красивую историю. Ни того, ни другого не вышло.
Она хотела крикнуть, что готова на все, но в трубке раздались короткие гудки.
— Не было у нас любви. Да она и не умела любить, только себя. Не только она, но и мама ее, и отец такие же были. Каждый в этой семье был занят устройством своей судьбы и ничем больше. Отец жил на работе.
За полтора года моей жизни у них и двумя словами не обмолвились. Мать без конца разъезжала по пансионатам. А мы с Инкой питались кремлевскими харчами,- вспоминал сво семейную жизнь с Инной Борис Голдаев.

ДО ДНА…
Первые годы после переезда из Ленинграда Ульянова провела под родительским крылом, но о собственном гнезде мечтать не переставала. Отец, министерский чиновник старой закалки, в конце концов сдался. Сам с супругой переехал в «двушку» в элитном доме у Парка культуры. Дочери досталась однокомнатная в том же районе. Скромная, но с отличной планировкой.
Соседство выдалось звездным: Галина Волчек, чета Стриженовых, олимпийский чемпион Валерий Брумель. С последним у актрисы сложилась особая дружба.
— Валера, ну сколько можно? — кричала Инна, когда он появлялся на пороге с бутылкой «Арарата».
— До дна, — отвечал тот, доставая из кармана пиджака две плитки шоколада «Аленка».

Нужно отметить, что Ульянов-старший продолжал опекать дочь по-советски основательно:
— Инночка, в распределитель завезли чешские гарнитуры…
— Доченька, вот тебе путевка в Пицунду…
Инна принимала подарки с благодарностью. Но финские сапоги быстро оказывались в углу гардеробной, а дорогие сервизы пылились нетронутыми. В ее шкафу висели роскошные наряды, но чаще всего Инна носила выцветшую юбку-солнце и растянутый свитер, купленный когда-то в универмаге.
Квартира, обставленная дорогой мебелью, выглядела как музей советского мещанства: полированный сервант с хрусталем, ковер «под гобелен», фарфоровые слоники на комоде.
Но ее настоящей жизнью были не вещи, не курорты, не положенные по статусу блага. А тесная кухня, где за копеечным портвейном спорили о Станиславском до утра. Заваленный книгами и потертыми театральными программками стол да пепельница, переполненная окурками.

И, конечно же, друзья, такие же неприкаянные, вечно голодные, готовые в любой момент сорваться «за туманом и за запахом тайги».
— Ты живешь как студентка общежития, — ругалась мать, видя все это.
— Зато по-настоящему, — парировала Инна. — На Руси должно быть весело.
НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СЧАСТЬЕ
Возможно, Инна могла бы стать прекрасной женой и матерью, если бы не ее мятежная натура, не терпящая рамок и условностей. По слухам, в ее жизни было немало увлечений. Говорили, что растопить сердце Ульяновой пытались Сергей Филиппов и Евгений Самойлов. И даже Евгений Моргунов со своей хулиганской непосредственностью не прошел мимо.
— Мне казалось, что романы будут бесконечны, как жемчужины на нитке, — признавалась она позже. — Возможно, стоило остепениться, родить детей… Но жалеть о своей жизни я не могу.

Свою главную любовь Ульянова встретила, уже перешагнув сорокалетний рубеж, когда, казалось бы, уже перестаешь верить в сказки. Константин Фельдзер, французский пилот с русскими корнями, случайно попал на спектакль в «Таганку» и был покорен экспрессией и темпераментом актрисы. И сразу же после спектакля решил с ней познакомиться.
— Мадам Ульянова, — сказал он на ломаном русском, — вы только что украли мое сердце. Вернете ли вы его, или мне придется летать в Москву до конца дней?

Фельдзер был старше на двадцать лет, но моложе душой, чем многие ее ровесники. Ветеран войны, он носил в себе ту же смесь романтики и стоицизма, что и сама Инна. Влюбленный мужчина прилетал в Москву при любой возможности, звал к себе в Париж, обещал устроить ей жизнь, о которой она даже не мечтала. Но…
— Я не смогла, — признавалась Ульянова. — Не смогла бросить театр, друзей, эту сумасшедшую московскую жизнь. Даже ради него.
А еще она боялась навредить отцу — руководителю высокого ранга не простили бы замужества дочери с иностранцем.