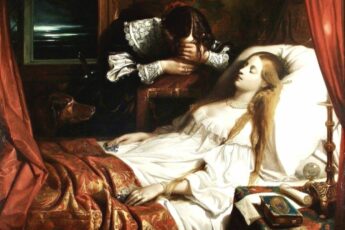— Не боись, не трону, — сказал султан своей христианской жене.
В XV веке на стыке Востока и Запада одна женщина связала эти два мира. Мара Бранкович, сербская княжна, стала супругой османского султана Мурада II и одной из самых влиятельных фигур своего времени.
Она родилась примерно в 1412-1420 годах, точная дата неизвестна. Мара была дочерью деспота Сербии Георгия Бранковича и византийской принцессы Ирины Кантакузины. Она с детства оказалась предназначена для большой политики. Юную Мару выдали замуж за султана Мурада II в 1435 году. Этот брак был заключен ради мира: её отец надеялся избежать османского нашествия ценой династического союза.
Свадьбу справили в османской столице Эдирне, а в приданое принцессы вошли обширные сербские земли: области Дубочица и Топлица. По слухам, этот союз оставался формальным — якобы, Мурад уважал веру и невинность жены и даже не вступал с ней в супружескую близость. Конечно, это маловероятно на самом деле. Скорее всего, эти слухи появились потому что у Мурада и Мары не было общих детей.

Мурад был уже женат на Хатидже Халиме султан. Но когда в Эдирне появилась куда более красивая Мара, то султан отправил Хатидже в Бурсу. Через некоторое время роли поменялись. Так и вышло, что две жены не жили в одном дворце одновременно. А вот огромный гарем наложниц ни одну из жён не смущал.
Так или иначе, юная христианка оказалась в сердце османского двора, оставаясь верной своей вере и родине, при этом принимая новую роль османской султанши.
Однако жизнь при дворе султана оказалась для Мары тяжелым испытанием, потребовавшим политической мудрости. Спустя несколько лет после свадьбы отношение между ее мужем и отцом обострились. Георгий Бранкович, лавируя между Османской империей и Венгрией, не спешил выполнять все требования султана.
Мурад II потребовал передать ему стратегическую крепость Смедерево — столицу сербского деспотата. Мара, оказавшись между молотом и наковальней, попыталась предотвратить конфликт: вместе с братом Стефаном она писала отцу, умоляя уступить крепость во избежание войны.
Однако деспот Георгий не послушал дочь и отказался отдать Смедерево. Султан не стерпел неповиновения вассала — в 1439 году османские войска осадили Сербию. Мара с тревогой следила из Эдирне за тем, как армия ее мужа подступает к родовым землям. После нескольких месяцев осады пал родной город Мары.

Её братья оказались пленниками султана. Вскоре случилась трагедия: двоих братьев Мары обвинили в тайных отношениях с их отцом и заточили в темницу. Мурад II в гневе приказал их ослепить — страшная кара, означавшая устранение политических соперников.
Узнав о готовящейся казни, Мара в отчаянии бросилась к султану с мольбой пощадить её братьев. «Пощади, они ведь моя кровь!», — молила мужа Мара.
Мурад, ценивший свою сербскую жену, внял её просьбам и отменил приказ, но было уже слишком поздно — несчастные уже лишились зрения. Султан разгневался на поспешность палача и велел ослепить самого исполнителя казни. В народе даже ходила легенда, будто поводом для расправы стала зависть султана: мол, братья сопровождали Мару на охоте и превзошли Мурада в меткости, за что и поплатились зрением.
Как бы то ни было, этот эпизод показал Маре жестокие нравы османского двора, а окружающим — степень её влияния: султан попытался выполнить просьбу жены, хоть и запоздало.
Благодаря ее посредничеству в 1444 году между османами и Сербией был заключен мир: султан пошел на уступки — восстановил власть Георгия Бранковича над частью сербских земель и отпустил ослепленных братьев, взамен требуя лояльности.
Мара тайно слала гонцов к отцу, помогая наладить диалог между враждующими сторонами. Этот хрупкий мир стал ее личной дипломатической победой. Мурад II ценил проницательность своей супруги, хотя она оставалась чужестранкой при дворе.

В 1451 году Мурад II скончался, и жизнь Мары снова круто изменилась. Будучи вдовой она покинула османский гарем и ненадолго вернулась на родину. Вокруг неё сразу же вспыхнули династические интриги: последний византийский император, Константин XI Палеолог, желал руки Мары, надеясь через брак с ней обрести союзника и приданое.
Но Мара отвергла это предложение — вероятно, она не пожелала менять одного правителя на другого и прекрасно понимала шаткость положения обреченной Византии. Она так и не вышла замуж снова, храня верность памяти Мурада или ценя обретенную независимость. Вскоре умер ее отец Георгий, а за ним и мать Ирина.
Не осталось ни семьи, ни престола, ради которых стоило бы оставаться в христианской Европе. И тогда Мара сделала неожиданный шаг: вернулась в Османскую империю – ко двору своего пасынка, султана Мехмеда II.
Молодой султан Мехмед Завоеватель принял мачеху с почестями. У Мехмеда рано умерла родная мать, и он относился к Маре как к своей приемной матери. По сути, Мара стала неофициальной «валиде» —матушкой султана, хотя и не приходилась ему родной.

Ей выделили богатые уделы и поместье в селении Ежово на землях нынешней Греции. Там при Маре сформировался небольшой «двор при дворе» — к ней стекались знатные сербы-изгнанники, нашедшие убежище под покровительством влиятельной султанши.
Сама же Мара часто бывала и при султанском дворе, оказывая Мехмеду поддержку и совет. В османских государственных актах того времени ее именовали с особым почетом — «первой среди христианских женщин» и «гордостью христианского народа».
В глазах Мехмеда II и его сына Баязида II Мара была полноправным членом султанской семьи. Она сумела добиться уникального статуса – оставаясь христианкой, стала одной из наиболее влиятельных особ Османской империи.
Во время правления Мехмеда II Мара Бранкович превратилась в настоящую тайную советницу султана и неофициального дипломата. Ее покои нередко посещали послы христианских держав, прежде чем предстать перед султаном. Они хорошо знали, что слово «матушки» Мары могло смягчить сердце грозного завоевателя.

Известно, например, что во время Первой османо-венецианской войны Мару навещали эмиссары Венеции, а в 1471 году она лично сопровождала в Стамбул венецианского посла, чтобы облегчить ему доступ к султану и участие в переговорах.
Посреди роскошных залов султанского дворца звучала ее мягкая славянская речь, уравновешивая резкие требования двух сторон. Мара обладала даром убеждения и прекрасно понимала как восточную, так и западную дипломатическую культуру. Ее двойная идентичность — сербская княжна и османская султанша — сыграла ей на руку.
Мара никогда не изменила своей вере. Оставшись православной, она ревностно защищала интересы христиан под властью султана. Пользуясь своим влиянием, Мара добивалась для православной церкви особых милостей. Фактически именно Мара в значительной мере решала, кто станет главным православным иерархом в Османской империи.

Кроме того, султан Мехмед по ее просьбам даровал привилегии христианскому духовенству: так, православные общины Иерусалима получили особые права, впоследствии распространенные и на Святой Горе Афон. Мара щедро жертвовала средства на монастыри.
Еще будучи женой Мурада, она стала покровительницей знаменитой обители Хиландар на Афоне, а позже опекала и другие святыни.
Когда болгарские монахи Рильского монастыря просили вернуть им мощи святого Иоанна Рильского, перевезенные османами в Тырново, Мара лично хлопотала за это перед султаном – и в 1469 году святыня чудесным образом вернулась в Рильский монастырь.
В христианском мире ее считали почти святой покровительницей, а некоторые слухи приписывали Маре тайные деяния. Одно из самых поэтичных преданий связано с дарами волхвов — золотом, ладаном и смирной, которые, согласно Евангелию, мудрецы Востока принесли новорожденному Христу.

Эта великая реликвия хранилась в византийских храмах, а после падения Константинополя в 1453 году перешла в руки османов. Легенда гласит, что именно Мара Бранкович спасла дары волхвов для христианства. В 1470 году, воспользовавшись расположением пасынка, она получила доступ к святыне и перевезла её на Афон.
Рассказывали, что султан выделил для этого путешествия целый корабль. Маре как женщине был запрещен вход в монастыри Афона, но ради нее было сделано исключение — якобы найден даже указ, разрешавший ей ступить на святую землю.
Подплыв к берегам Афона, Мара вышла из корабля у монастыря Святого Павла. Там ее встретили настоятель и все монахи обители. В этот момент, как гласит предание, с небес раздался голос Богородицы: «Мара, не ходи дальше». Смиренно преклонив колени, Мара передала драгоценный ларец с дарами волхвов монахам, даже не переступив границ монастыря.
В память об этом событии на берегу воздвигли часовню. До сих пор дары волхвов хранятся на Афоне — правда, историки полагают, что прямых свидетельств в пользу этой истории нет, кроме местного предания.
Были и другие слухи о Маре. В Европе говорили, будто у Мары и Мурада был тайный сын, которого она вывезла на Запад. Поговаривали, что мальчика назвали Орхан, крестили в Риме самим папой Каликстом III и вырастили как претендента на османский трон под христианским именем Каликст Осман.
После падения Константинополя венецианцы будто бы раскрыли карты, объявив этого юношу «истинным наследником» султанов — в надежде посеять раздор. Папа Римский Пий II, впрочем, усомнился в правдивости истории и считал Орхана самозванцем. Современники не находили подтверждений этой легенде, и историки тоже считают её вымыслом.
Последние годы жизни Мара провела, чередуя уединение в своем имении с пребыванием при султанском дворе. Даже после смерти Мехмеда II в 1481 году новый султан, Баязид II, продолжал относиться к ней с уважением.
Султаны ценили её совет и мудрость до самого конца. Мара скончалась в 1487 году. Говорят, она умерла в спокойствии, окруженная слугами и почестями, как истинная султанша, хотя в её руках всегда лежали православные четки.